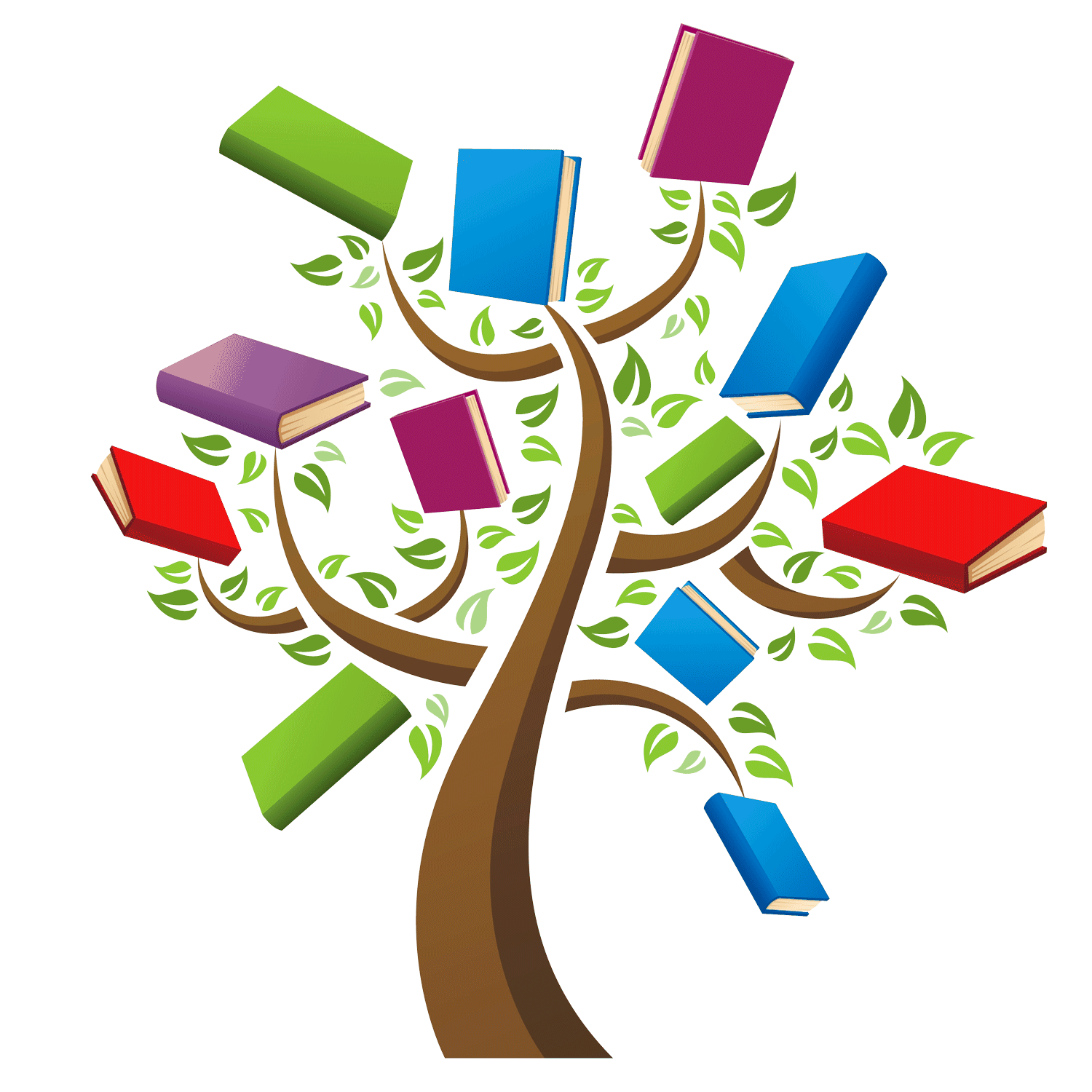Чингиз Торекулович Айтматов. Джамиля
Шел
третий год войны. Взрослых здоровых мужчин в аиле не было, и потому жену моего
старшего брата Садыка (он также был на фронте), Джамилю, бригадир послал на чисто
мужскую работу — возить зерно на станцию. А чтоб старшие не тревожились за невесту,
направил вместе с ней меня, подростка. Да ещё сказал: пошлю с ними Данияра.
Джамиля
была хороша собой — стройная, статная, с иссиня-черными миндалевидными глазами,
неутомимая, сноровистая. С соседками ладить умела, но если её задевали, никому
не уступала в ругани. Я горячо любил Джамилю. И она любила меня. Мне кажется,
что и моя мать втайне мечтала когда-нибудь сделать её властной хозяйкой нашего
семейства, жившего в согласии и достатке.
На
току я встретил Данияра. Рассказывали, что в детстве он остался сиротой, года
три мыкался по дворам, а потом подался к казахам в Чакмакскую степь. Раненая
нога Данияра (он только вернулся с фронта) не сгибалась, потому и отправили его
работать с нами. Он был замкнутым, и в аиле его считали человеком со странностями.
Но в его молчаливой, угрюмой задумчивости таилось что-то такое, что мы не решались
обходиться с ним запанибрата.
А
Джамиля, так уж повелось, или смеялась над ним, или вовсе не обращала на него
внимания. Не каждый бы стал терпеть её выходки, но Данияр смотрел на хохочущую
Джамилю с угрюмым восхищением.
Однако
наши проделки с Джамилей окончились однажды печально. Среди мешков был один
огромный, на семь пудов, и мы управлялись с ним вдвоем. И как-то на току мы свалили
этот мешок в бричку напарника. На станции Данияр озабоченно разглядывал
чудовищный груз, но, заметив, как усмехнулась Джамиля, взвалил мешок на спину и
пошел. Джамиля догнала его: «Брось мешок, я же пошутила!» — «Уйди!» — твердо
сказал он и пошел по трапу, все сильнее припадая на раненую ногу… Вокруг
наступила мертвая тишина. «Бросай!» — закричали люди. «Нет, он не бросит!» —
убежденно прошептал кто-то.
Весь
следующий день Данияр держался ровно и молчаливо. Возвращались со станции поздно.
Неожиданно он запел. Меня поразило, какой страстью, каким горением была
насыщена мелодия. И мне вдруг стали понятны его странности: мечтательность,
любовь к одиночеству, молчаливость. Песни Данияра всполошили мою душу. А как
изменилась Джамиля!
Каждый
раз, когда ночью мы возвращались в аил, я замечал, как Джамиля, потрясенная и растроганная
этим пением, все ближе подходила к бричке и медленно тянула к Данияру руку… а потом
опускала её. Я видел, как что-то копилось и созревало в её душе, требуя выхода.
И она страшилась этого.
Однажды
мы, как обычно, ехали со станции. И когда голос Данияра начал снова набирать
высоту, Джамиля села рядом и легонько прислонилась головой к его плечу. Тихая,
робкая… Песня неожиданно оборвалась. Это Джамиля порывисто обняла его, но тут
же спрыгнула с брички и, едва сдерживая слезы, резко сказала: «Не смотри на меня,
езжай!»
И
был вечер на току, когда я сквозь сон увидел, как с реки пришла Джамиля, села
рядом с Данияром и припала к нему. «Джамилям, Джамалтай!» — шептал Данияр, называя
её самыми нежными казахскими и киргизскими именами.
Вскоре
задул степняк, помутилось небо, пошли холодные дожди — предвестники снега. И я увидел
Данияра, шагавшего с вещмешком, а рядом шла Джамиля, одной рукой держась за лямку
его мешка.
Сколько
разговоров и пересудов было в аиле! Женщины наперебой осуждали Джамилю: уйти из
такой семьи! с голодранцем! Может быть, только я один не осуждал её.
И.
Н. Слюсарева